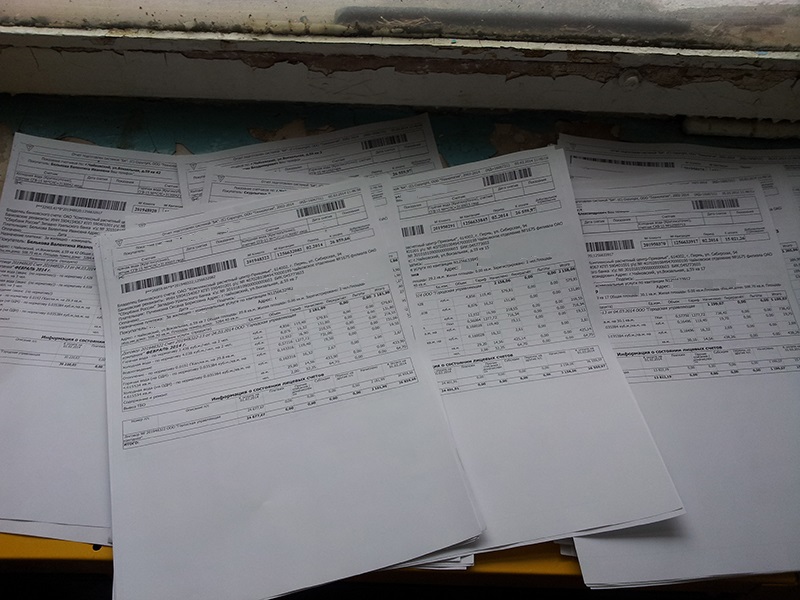Мир книги
Рубрика:
Проза
Вторник,30.04.2013
Еженедельник «Частный Интерес» начинает реализацию проекта «Открой книгу — открой мир!», направленный на популяризацию «читающего образа жизни». В связи с этим представляем очерки пермского поэта, писателя, краеведа Яна Кунтура, посвященные стихотворениям Федора Тютчева и Марины Цветаевой.
Игра в прятки
(Об одном раннем стихотворении Тютчева)
Cache-Cache
Вот арфа ее в обычайном углу,
Гвоздики и розы стоят у окна,
Полуденный луч задремал на полу:
Условное время! Но где же она?
О, кто мне поможет шалунью сыскать,
Где, где приютилась сильфида моя?
Волшебную близость, как бы благодать,
Разлитую в воздухе, чувствую я.
Гвоздики недаром лукаво глядят,
Недаром, о розы, на ваших листах
Жарчее румянец, свежей аромат:
Я понял, кто скрылся, зарылся в цветах!
Не арфы ль твоей мне послышался звон?
В струнах ли мечтаешь
укрыться златых?
Металл содрогнулся, тобой оживлен,
И сладостный трепет еще не затих.
Как пляшут пылинки
в полдневных лучах,
Как искры живые в родимом огне!
Видал я сей пламень в знакомых очах,
Его упоенье известно и мне.
Влетел мотылек, и с цветка на другой,
Притворно-беспечный, он начал порхать.
О, полно кружиться, мой гость дорогой!
Могу ли, воздушный, тебя не узнать?
Перечитывая заново знакомое с юности, о котором вроде бы давным-давно сложилось представление (так сказать, навешан ярлычок перед отправкой в архив на почетное, но мало посещаемое место), глаза вдруг зацепились за одно раннее, 1828 года, и не замеченное мною до этого стихотворение. Само название его было уже не привычным для хрестоматийного, раздерганного на цитаты поэта: «Cache-cache». Это по-французски «игра в прятки». Позднее, специально заглянув в словарь, я нашел еще одно значение этого слова, переносное: «разминуться», «не встретиться», которое оказалось более подходящим для этой маленькой музыкальной пьесы.
Я был больше чем удивлен, встретив такой неожиданный не только для моих представлений о Тютчеве, но и вообще для сложившихся у меня стереотипов о той эпохе текст. Удивительно было, что мы разминулись с ним раньше. Что это — маленький эксперимент, предвосхищающий поэтические течения, даже и не предполагаемые еще в ближайшие полвека? Проблеск интуиции?
Лексика — все та же, как и у других современников: слова, поэтизмы, обороты, но при этом все они сложены в странную суггестивную, игровую и какую-то мерцающую композицию. В ней ощущается импрессионистичность, при этом задолго до возникновения собственно импрессионизма. Я бы охотнее поверил, что такая миниатюра могла возникнуть в Серебряном веке, может быть у Анненского, Пастернака или даже Северянина, но не в начале девятнадцатого.
«Вот арфа ее в обычайном углу, / Гвоздики и розы стоят у окна, / Полуденный луч задремал на полу: / Условное время! Но где же она?»
Если бы не арфа в «обычайном углу», то точно отнес бы стихотворение даже к более позднему времени. И все вроде бы здесь конкретно, даже время свидания оговорено. Вот герой уже в предвкушении, в игриво-восторженном романтическом настрое, но увы…
«О, кто мне поможет шалунью сыскать, / Где, где приютилась сильфида моя? / Волшебную близость, как бы благодать, / Разлитую в воздухе, чувствую я».
Вдруг странная двойственность, двухплановость, как сквознячок — по коже. А, может быть, «сильфида» здесь это не просто галантное сравнение-комплимент. Может быть, это вообще не реальная женщина, а буквально Сильфида — игривый дух воздушной стихии?
Тогда это уже не просто любовное свидание, а встреча с духом воздушной стихии? Подобная мифологическая двойственная игра-совмещение пластов смысла также более характерна для следующего XX века.
«Гвоздики недаром лукаво глядят, / Недаром, о розы, на ваших листах / Жарчее румянец, свежей аромат: / Я понял, кто скрылся, зарылся в цветах!»
Ее нет и одновременно она здесь, она есть во всем: и в аромате цветов, и в румянце роз, и в лукавстве фиалок. Она скрыто наполняет собою все место встречи. Даже звуки дрожащих от сквозняка струн (может быть, это невидимая душа ее вибрирует на них?):
«Не арфы ль твоей мне послышался звон? / В струнах ли мечтаешь укрыться златых? / Металл содрогнулся, тобой оживлен, / И сладостный трепет еще не затих».
Но нет, увы, это всего лишь легкий порыв ветра. И возбужденное, мечтающее о желанном присутствии духа или возлюбленной сознание всего-навсего разыгралось. Воображение — одним словом… А может, действительно, мифическая возлюбленная (сильфида это или не сильфида — не важно) невидимо присутствует здесь, играя со своим избранником?.. Да нет же, это всего-навсего восторженное, романтическое сознание. Это оно воссоздает из воздуха фантом возлюбленной, наделяя духом ее все окружающие предметы. Ведь все мы знаем, как это характерно для влюбленности. И все-таки…
«Как пляшут пылинки в полдневных лучах, / Как искры живые в родимом огне! / Видал я сей пламень в знакомых очах, / Его упоенье известно и мне».
Ткань стихотворения — это сплошная, творимая на глазах читателя магия воздуха, такой словесный тюль колышущейся занавески, обступающей, обнимающей фигуру невидимки, проявляющей ее из воздушного пространства. И вдруг она претерпевает новую метаморфозу, рассыпаясь на разноцветные мерцающие создания:
«Влетел мотылек, и с цветка на другой, / Притворно-беспечный, он начал порхать. / О, полно кружиться, мой гость дорогой! / Могу ли, воздушный, тебя не узнать?»
Свидание все-таки состоялось, игра в прятки завершена, потому что мембрана одномерности лопнула, раскрывая глубину других измерений. Потому, что возлюбленная, и это так, одновременно и женщина, хозяйка комнаты, и каждый цветок букета, и звенящий на струнах ветер, и влетевший, порхающий над головой мотылек-психея, бабочка-душа. Она — Психея. Тогда кто же лирический герой?..
А может, все это аллегория познания чего-то более глубокого? Уверен, что средневековый персидский поэт-суфий вычитал бы здесь совсем иные смыслы. Он сказал бы, что это написано истинным вали — возлюбленным другом Бога. Кто знает, может быть, Тютчев имел в юности свой духовно‑мистический опыт и описывает именно его? Но это всего лишь мои недоказуемые фантазии.
Железнодорожные полотна
(По поводу стихотворения Марины Цветаевой «Рельсы»)
В некой разлинованности нотной
Нежась наподобие простынь —
Железнодорожные полотна,
Рельсовая режущая синь!
Пушкинское: сколько их, куда их
Гонит! (Миновало — не поют!)
Это уезжают-покидают,
Это остывают-отстают.
Это — остаются. Боль как нота
Высящаяся… Поверх любви
Высящаяся… Женою Лота
Насыпью застывшие столбы…
Час, когда отчаяньем, как свахой,
Простыни разостланы. — Твоя! —
И обезголосившая Сафо
Плачет как последняя швея.
Плач безропотности! Плач болотной
Цапли… Водоросли — плач! Глубок
Железнодорожные полотна
Ножницами режущий гудок.
Растекись напрасною зарею,
Красное, напрасное пятно!
…Молодые женщины порою
Льстятся на такое полотно.
Эти созвучия. Они как электрический ток. Ток-эмоция, готовый в любую секунду вырваться из-под оболочки формы и ударить прикоснувшегося, вызвать болевой шок.
Эта навязчивая нарочитая аллитерация уже в первых двух строчках — словно не отпускающая ноющая боль, словно женские всхлипы, неожиданные среди самого обычного спокойного зимнего ландшафта. Но в холод и бесстрастие его уже вживлено предощущение трагедии…
«В некой разлинованности нотной / Нежась наподобие простынь — / Железнодорожные полотна…»
Кажущиеся мирными нотные линейки утренних рельс и проводов на фоне снегов и неба. И здесь же нежное интимное «наподобие простынь», как мгновенное воспоминание о сладком мгновении. С этого сравнения начинается парадоксальная словесная игра двух образных потоков, пересекающихся, вытесняющих друг друга: «реальное железнодорожное полотно» и «полотно, как ткань-простыня воспоминания». Именно на их стыках и переплетениях выступают два мотива: мотив грехопадения, соблазна и мотив отчаяния, брошенности, самоубийства. Причем оба мотива скрыты в одних и тех же словах как параллельные смыслы разных уровней.
«Железнодорожные полотна, / Рельсовая режущая синь!»
Да, вроде бы обычная железнодорожная картина, но следующий ряд созвучий врывается в нее физическим звучанием разрыва, разрываемой ткани… нет — разрезаемой гигантскими ножницами с синим металлическим отливом… Разрезаемых отношений, разрезаемой судьбы.
Это не те поющие рельсы-шпалы веселой дороги, веселого путешествия. Все это уже в прошлом. Это рельсы брошенности, рельсы разлуки и обмана, уносящие на своих параллелях надежду и веру, это рельсы Анны Карениной… Здесь неслучаен и намек на «Бесов». Сколько этих бесов проносится сейчас, остывших, отставших.
«Пушкинское: сколько их, куда их / Гонит! (Миновало — не поют!) / Это уезжают-покидают, это остывают, отстают. / Это — остаются».
Рельсы-шпалы. Рельсы-бесы, издевающиеся, искушающие сделать последний шаг… И боль — как самая высокая нота на этих нотных линейках, связанная всхлипом аллитерации с первыми строчками… Высящаяся, пронзительная нота среди этих бесстрастных рельс и проводов, между которыми застыли библейские соляные столбы, символы покинутости и в то же время — обычная повседневность ландшафта (и это выражено в одной фразе!). Любви уже нет — она вся ушла в боль.
«Боль, как нота / Высящаяся… Поверх любви / Высящаяся… / Женою Лота / Насыпью застывшие столбы…»
И вот он — двойной внутренний образ-портрет женщины, совмещающий два состояния, где сладкое воспоминание и горькая реальность сливаются:
«Час, когда отчаяньем, как свахой, / Простыни разостланы. — Твоя!»
Простыни и железнодорожное полотно… сваха и отчаяние… «Твоя» — это намек на присутствие любовника… Но кто замещает этого любовника в реальности? Отдаться кому? Лечь на железнодорожное полотно-простыню перед кем?.. Поездом… Поезд-любовник… (гениально!) Это кульминация. Кульминация, усиленная недосказанностью, фигурою умалчивания и новой аллитерацией, умножающей ключ фразы — отчаяние. Умножающей грех…
А за этим предельным накалом — тихий беззвучный женский плач, контрастирующий со всплеском отчаяния от безысходности. Выбор сделан, решение принято. Осталось лишь апатия, безразличие, саспенс. Они бесстрастно укладывают жертву на рельсы. Полное смирение с этой внутреннею оглушающей тишиною… Но не с болью — ведь от нее есть лишь только одно избавление… И не важно, Сафо ты или последняя швея… От судьбы не уйдешь… И волосы Офелии сплетаются с водными травами…
«И обезголосившая Сафо / Плачет как последняя швея».
«Плач безропотности! Плач болотной / Цапли… Водоросли — плач!»
А сквозь эти тихие всхлипы, всхлипы, идущие уже по инерции, — вдруг резкий, вроде бы и ожидаемый, но в тот же миг внезапный своим завывающим мощным рифмованным «О-О-О», тянущимся через два стиха, и поэтому до ужаса реальный, гудок приближающегося паровоза-любовника, пугающего и желанного, несущего освобождение…
«Глубок / Железнодорожные полотна / Ножницами режущий гудок».
Паровоза, режущего полотно жизни, как те самые отливающие синью гигантские ножницы швеи первых стихов. Швеи-парки. Мгновенное звуковое ощущение физической боли… и все…
Последнее четверостишье, с его аллитерацией заговора боли, это не финал — это послесловие и ключ ко всему тексту. В нем и отношение автора к произошедшему, и сожаление, и звуковое физическое ощущение неслышно расползающегося и пропитывающего снег (или простыню-полотно первого грехопадения?!) пятна крови, и поднимающегося над ним холодного зимнего красного рассвета… Наверное, будет ветрено.
«Растекись напрасною зарею, / Красное, напрасное пятно!»
И завершает все неожиданно бесстраст-ный или автокомментарий, или резюме, еще раз включающее двусмысленность «полотна». Да и о чем теперь говорить, когда все уже сказано. Когда уже все — и боль, и отчаяние, и любовь — перешло в вечное молчание… Заключительные строки — это как минута молчания.
«…Молодые женщины порою / Льстятся на такое полотно».
Просмотров: 10478
Чтобы оставить комментарий пожалуйста авторизуйтесь:
Вход |
Авторские статьи
Интервью
Мария Картазаева: «Это мой любимый город и мой любимый театр»

Актриса Чайковского театра драмы и комедии Мария Картазаева уже полгода работает в должности исполняющего обязанности художественного руководителя театра. Она возглавила театр в трудные для него времена, сохранила труппу и с большим оптимизмом смотрит в театральное будущее
Другие новости: